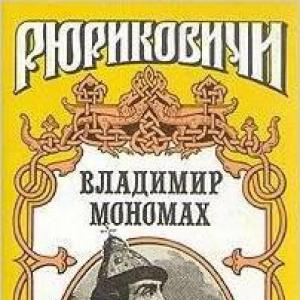Разница между правдой и истиной. Кто с кем воевал в Гражданскую войну
Определение того, что есть правда, а что есть истина, и вопрос, чем же они отличаются друг от друга, весьма занимают пытливых носителей русского языка: даже в интернете на форумах можно встретить весьма оживленные дискуссии на этот счет. Причем ответы встречаются самые неожиданные и даже противоречащие друг другу, от «разницы нет» до «это совершенно несопоставимые категории». Попытаемся выяснить, почему же правда и истина вызывают такой интерес у людей всех возрастов и в чем таится загадка их различных толкований.
Определение
Правда – информация, претендующая на достоверность; антоним слова ложь .
Истина – единственно верная информация, абсолютно точно отражающая реальное положение вещей.
Сравнение
В современном русском языке у этих понятий сформировались следующие основные значения. Правда – это знание конкретного, фактического эпизода действительности. Это знание может быть и, скорее всего, является неполным, так как перед человеком в данном случае открывается лишь некий фрагмент, а не целое. Истина же – высокое, сокровенное знание, связанное с духовной, интеллектуальной сферой. Истина близка к общемировым, божественным законам бытия. Правда – понятие более приземленное, будничное, истина – возвышенное, всеобъемлющее. Правда субъективна, а истина объективна. Истина одна, а правда – это лишь точка зрения конкретного человека на какое-либо событие или факт. Любую правду можно попытаться оспорить, истина же не поддается сомнению, так как она абсолютна. Истина сверхценна и не требует доказательств.
Интересно, что такое разделение, которое сегодня воспринимается носителями русского языка как истинное (простите за невольный каламбур!), вплоть до XIX века носило прямо противоположный характер. То есть раньше истина осмыслялась как человеческое, а правда – как божественное начало. Правда являлась непременным атрибутом Бога и святых. Слово правда в языке Древней Руси было тесно связано с понятиями справедливости, праведности, благочестия. Вспомним древнейший правовой кодекс «Русская Правда» – не зря он носил именно такое название. Правда в то время – это результат общения Бога и человека. А вот истина тогда воспринималась как нечто более приземленное: согласно Псалтырю, она восходила «от земли», была даром человеческого разума, в то время как правда приходила «с небес». В некоторых своих значениях истина даже была семантически связана с понятиями товар и деньги . Но уже к XX веку истина и правда поменялись местами: истина «возвысилась», а правда «принизилась».
Выводы сайт
- В современном русском языке правда – это некая фрагментарная, субъективная информация, претендующая на достоверность, но не обязательно ее несущая. Истина же – абсолютное, неоспоримое знание, связанное с духовной сферой.
- Правда – понятие приземленное, истина – возвышенное.
- Правда субъективна, а истина объективна.
- Истина одна, а правда у каждого может быть своей.
- Вплоть до XX века толкование понятий правды и истины было прямо противоположным: истина была сугубо человеческим, а правда – божественным началом.
Небольшой среднеазиатский городок, конец 60-х, ещё не отгремели битвы «физиков» и «лириков», ещё крутят в парке неподалёку «Джамайку». Детские воспоминания, - они всегда самые яркие.
Вторая смена в школе закончилась, за окном вечер, морозно. Тихонько поскрипывают батареи, клонит в сон. Однако мы продолжаем сидеть в классе – у нас «внеклассные чтения». Преподаватель истории, «бухарская» еврейка Эмма Захаровна рассказывает о Ганнибале. Сегодня, слава Богу, обошлось. Периодически нашу «Эмку» начинает нести, и она в очередной, мы уже сбились со счёта, который раз, может завести «бодягу» о еврейских погромах. Милая, добрая «Эмка», которая даже двоек никогда и никому не ставит, в такие минуты преображается. В её глазах начинает метаться огонёк безумия, голос начинает звенеть Рассказ о мирно ужинавшей еврейской семье к которой врываются осатаневшие от крови погромщики, потрясает детское воображение. Он неизменно заканчивается описанием трёхмесячного Ёсика которого, вытащив из люльки, разрывают надвое. Откуда она взяла этого «Ёсика» - до сих загадка. Бабушка, старая казачка, услышав однажды описание этого действа в моем пересказе, коротко, как отрезала, сказала: «Врёт, шалава». Несколько лет спустя наша Эмма Захаровна попадёт в «психушку». Шизофрения среди евреев обычное дело.
Спросите, чего я это в воспоминания ударился, заняться более нечем? Да нет, просто прекрасная иллюстрация. Во-первых, вывернутого наизнанку еврейского мировосприятия; во-вторых, есть ли у евреев свои кураторы. Человек родившийся за тысячи километров от мест самих погромов, человек родившийся много позднее самих погромов, воспринимает их как нечто произошедшее с ним самим. Скажете – пример нехарактерный, нездоровый человек и всё такое, а попробуйте сами поговорить с любым евреем. Если он будет достаточно откровенен, вы услышите тоже самое. В них это закладывают с самого раннего детства.
Поскольку байки школьной «училки» прекрасно укладывались в тогдашнюю версию нашей истории, я особо не «заморачивался». Впервые «разрыв шаблона» случился уже на четвёртом курсе. На одном из субботников преподаватель истмата милейший Сергей Анатольевич, немного, самую малость, перебрав, поведал «страшную» тайну – оказывается некоторые иерархи РПЦ тоже были черносотенцами. Если в плотине появляется маленькая дырочка, далее - просто вопрос времени.
Давайте начнём с конца, а именно с Гражданской войны. Это то единственное, действительно страшное для обычного местечкового еврейства время. Евреев грабили и убивали все, кому не лень – красные, белые, зелёные, бурые в крапинку. «Неверующим» рекомендую к прочтению книгу Гусева-Оренбургского «Багровая книга. Погромы 1919-1920 гг. на Украине» (Харбин, издание Дальневосточного Еврейского Общественного Комитета помощи сиротам-жертвам погромов («ДЕКОПО»), 1922.) . Но, позвольте, разве не грабили и не убивали всех остальных? Погибшие евреи только малая толика всех сгинувших в пламени братоубийственной войны. В связи с этим хочется привести слова одного из основателей сионизма г-на Жаботинского: «Когда евреи массами кинулись творить русскую политику, мы предсказали им, что ничего доброго отсюда не выйдет ни для русской политики, ни для еврейства» (Жаботинский, соч., стр. 73). Помните у пророка Осии: «Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю» (Осия 8:7) . Евреи, однако, ничего не поняли и ни чему не научились. И вот уже в наши дни некий Самсон Мадиевский на сайте lechaim.ru в статье «Евреи и русская революция: был ли выбор» задаёт вопрос и сам на него отвечает: «Как и почему советский коммунизм превратился впоследствии из силы, осуждавшей антисемитизм, боровшейся с ним, в самую весомую из антиеврейских сил послевоенного мира, – тема особая, требующая отдельного разговора. Но даже если бы миллионам российских евреев, живших в предреволюционную эпоху, в годы революции и гражданской войны, дано было предвидеть эту метаморфозу, их поведение все равно определяли бы обстановка и условия текущего, а не будущего времени. Им все равно пришлось бы решать проблемы, актуальные тогда. Могло ли быть иначе?» Вывод говорящий и надо сказать весьма печальный. О чём тогда «плач»?
«Вообще едва ли можно оспорить тот факт, что религиозные и иные идеологические "доводы" выступали всегда как средство "оправдания" погромов, а не как их причина. Это недвусмысленно показал видный еврейский ученый Д.С.Пасманик в статье "Погромы в России" (ЕЭ, т, 12, с. 620), утверждая, что у погромщиков не было "явно выраженной расовой вражды... Не раз те же крестьяне, которые грабили еврейское добро, укрывали у себя спасающихся евреев". Кстати сказать, тогда, во времена российских погромов, констатирует ЕЭ, "только немногие говорили о племенной и расовой ненависти: остальные считали, что погромное движение возникло на экономической почве" (там же, с. 634). Это уже позднее была выдумана или же, в крайнем случае, непомерно раздута некая якобы характерная для населения России ненависть к евреям как таковым.». (В.Кожинов, «Правда о погромах»)
Переходим к погромам в Российской Империи до революции 17-го года. Любой, будь то еврей или просто «жидовствующий», говоря о погромах, обязательно упомянет так называемые одесские «погромы». Простите, разве можно назвать погромами «разборки» крупных ОПГ в начале 90-х? А в 1821, 1859 и 1871 годах в Одессе имели место именно «разборки» между двумя российскими ОПГ – еврейской и греческой. О погромах как явлении, пожалуй, можно говорить начиная с 1881 года, после убийства императора Александра II. Начавшись в Елисаветграде, погромы бушевали по всей России вплоть до 1884 года. Теперь внимание на итоги этих погромов – евреев убито 2, русских крестьян 19, последние убиты войсками, наводившими порядок. Это я к вопросу о том, что правительство потакало погромщикам. Еврейский историк Ю. И. Гессен писал, что главными виновниками тех погромов были революционеры-народовольцы, считавшие, что погромы соответствовали планам революционеров.
Один из самых кровавых погромов – Кишинёвский погром 1903 года. Данные по погибшим разнятся, однако согласно официальным данным погибших было 42 человека, из них 38 евреи. Разгромлено 1350 домостроений, 500 из них – еврейские лавки. Об этом погроме стоит поговорить более подробно и вот почему. Практически сразу после погрома Петербургское «Бюро защиты евреев» заявляет: «Как только мы узнали, при какой обстановке происходила Кишинёвская бойня, для нас стало ясно, что эта дьявольская затея никогда не имела бы места... если б она не была задумана в Департаменте полиции и не выполнялась по приказу оттуда». Главной их целью разумеется был министр внутренних дел Плеве, позднее убитый эсером Созоновым. Адвокат Зарудный, которому еврейская община поручает заняться этим делом, неоднократно заявлял, что располагает материалами, свидетельствующими о причастности к погромам начальника Кишинёвского Охранного отделения Левендаля. Могу только отметить, «доказательств» никто и никогда не видел, до сих пор ждём-с. В качестве «доказательства» одно время фигурировало некое послание, якобы отправленное Плеве Левендалю, оно даже было опубликовано в газете «Таймс». Но, вот незадача, в Еврейской Энциклопедии (1996 г.) читаем: «Текст опубликованной в лондонской газете «Таймс» телеграммы Плеве... большинство исследователей считают подложным». Стоит добавить, ложь - главное оружие евреев.
Немного об этническом составе тогдашнего Кишинёва. На 1903 год в Кишинёве проживало 50 тыс. молдаван, 50 тыс. евреев, 8 тыс. русских, большая часть которых была малоросами. Цифры разумеется приблизительные, но это лучше, чем совсем ничего, особенно когда в погромах начинают обвинять именно русских.
Поводом для погрома послужила статья о ритуальном убийстве христианского мальчика в Дубоссарах опубликованная в газете «Бессарабец». Сами погромы начались 6 апреля, однако роковым для евреев стало 7 апреля, в этот день выстрелом из револьвера был убит евреями подросток Останов. Примерно с 5 часов пополудни погромы лавок перешли в убийства евреев. И вот ещё какая странность, когда называют одного из главных организаторов погромов, его имя почему-то всегда произносят на русский лад - Павел Александрович Крушеван(?). На самом деле это был некто Паволаки Крушеван – молдаванин.
И опять возвращаюсь к теме бездействия правительства. При усмирении погрома пострадали 7 солдат и 68 полицейских, арестовано к утру 9 апреля 816 человек, губернатор фон-Раабен и ещё несколько должностных лиц после кишинёвского погрома были немедленно смещены – это всё результат «бездействия».
По результатам судебного следствия из 816 арестованных – 250 были освобождены от следствия и суда по бездоказанности обвинения, 466 человек получили судебные решения за мелкие преступления, 37 человек обвинялись в убийствах и насилиях, 12 из них были оправданы, 25 найдены виновными и приговорены к лишению всех прав состояния и каторге или арестантским ротам. Евреев среди осуждённых не было ни одного, хотя только они пользовались огнестрельным оружием.
Даже такой русофоб как г-н Солженицин и тот был возмущён ложью вокруг Кишинёвского погрома: «Кишинёвским погромом воспользовались, чтобы нарицательно и навсегда заклеймить Россию. И сегодня любая честная историческая работа на эту тему требует отличить ужасную правду о Кишинёве от коварной о нём неправды». (А.И. Солженицин, «Двести лет вместе»)
После опубликования 17 октября 1905 года «Манифеста об усовершенствовании государственного порядка» (http://www.hist.msu.ru/ER/Etex... по России прокатывается новая волна погромов. Император Николай II в своём письме матери от 27 октября 1905 года пишет: «...народ возмутился наглостью и дерзостью революционеров и социалистов, а так как 9/10 из них жиды, то вся злость обрушилась на тех — отсюда еврейские погромы... Но не одним жидам пришлось плохо, досталось и русским агитаторам: инженерам, адвокатам и всяким другим скверным людям». И это действительно так, достаточно взглянуть на факты - в ходе октябрьских погромов погибли 1622 чел. (из них евреев 711 чел., т. е. 43%), а ранено — 3544 чел. (из них евреев 1207 чел., т. е. 34%). (данные С. А. Степанова) Как видите, и эти погромы нельзя назвать чисто еврейскими, число жертв среди евреев пусть ненамного, но всё же меньше жертв среди русских.
И ещё, по подсчётам историка из США Анны Гейфман революционеры разных мастей убили в 1900-х годах около 17 тыс. человек («Родина», 1994г., №1, стр. 25). Это я так, для сравнения …
О «черносотенцах» мы ещё поговорим в другой статье, сейчас просто скажу – их участие в организации самих погромов всегда было либо минимально, либо отсутствовало полностью. Это ещё одна большая ложь евреев.
В статье были использованы труды Кожинова, Солженицина и некоторых других авторов, их я упомянул в самой статье. В качестве иллюстрации использована литография, выпущенная в 1905 г. в США «Царь, прекрати жестокое угнетение евреев!»
До новых встреч, друзья.
] Составитель П.С. Ульяшов. Ответственный редактор С.В. Маршков. Художник М.А. Зосимова.
(Москва: Алгоритм, 2005)
Скан, обработка, формат Djv: Zed Exmann, 2011
- СОДЕРЖАНИЕ:
Вадим Кожинов - литератор и историк (5).
Часть первая. БЕСЕДЫ, ДИАЛОГИ, ИНТЕРВЬЮ
Сеятель (9).
Лики и маски истории (25).
Прерывистый путь (52).
«Только верить...» (59).
Россия как чудо (70).
Две столицы (83).
На что надеяться России (94).
Моя боль - Сербия (104).
«Нелепо вести переговоры с чеченцами в рамках норм мировой демократии» (108).
«Многое из того, что произошло, можно объяснить русским максимализмом...» (113).
Поможет ли нашей Родине чувство достоинства? (119).
Ниглизм - дурной советчик (126).
Пречистый лик Победы (132).
Мода на простонародность (145).
Кто виноват? (185).
Государственность и культура (205).
Россия в окружении соседей (217).
Двоевластие (230).
«Русская культура началась в дружине» (238).
«Патриотическая идея социализму не противостоит» (242).
Русский человек: в поисках правды (249).
«Прошу считать меня земляком» (258).
«Социализм в России - это неизбежность» (272).
Необоримость Руси (275).
Персона и персонаж (287).
«Мы не лучше и не хуже других. Мы другие» (301).
«У нас другое начало» (306).
Кто и почему нагнетает тему антисемитизма? (311).
Загадка 37-го (321).
Загадка космополитов (337).
Солженицын против Солженицына (353).
«Судилище» (368).
Война... литература... история. Письма абхазских писателей Вадиму Кожинову (373).
Часть вторая. ВОСПОМИНАНИЯ О В.В. КОЖИНОВЕ
Неосторожный и необходимый (386).
Алексей Пузицкий. Брат (388).
Гелий Протасов. У стен Донского монастыря (392).
Георгий Гачев. Вадим - необходим (401).
Лев Аннинский. Только Вадим (406).
Сергей Семанов. Вадим Кожинов и его товарищи в русской антимасонской ложе (416).
Станислав Лесневский. Артист (423).
Таисия Наполова. «...И вновь сиротеют душа и природа» (427).
Михаил Грозовский. Русский просветитель (437).
Виктор Кожемяко. Его слово в «Правде» и «Советской России», а также в моей жизни (443).
Сергей Кара-Мурза. Давший посох в тумане (451).
Евгений Потупов. Он нес в своем сердце победы и беды России (457).
Александр Васин. Антинекролог (459).
Станислав Куняев. «За горизонтом старые друзья...» (469).
Владислав Попов. Вадим Кожинов как мой учитель (507).
Станислав Куняев. Этот бесстрашный человек (521).
Сергей Небольсин. Кожинов, Арбат и Россия (535).
«Если бы не было Зюганова, я бы ни за кого не голосовал» (551).
Павел Ульяшов. Доброжелатель (557).
Русские поэты - Вадиму Кожинову. Стихи разных лет (564).
Аннотация издательства:
Книги В.В. Кожинова (1930-2001), писателя, историка, знатока отечественной культуры, давно стали настольными для миллионов читателей. Выдающийся просветитель минувшего века, на чьих идеях выросло «два поколения русской национально мыслящей интеллигенции», Вадим Валерианович был чрезвычайно отзывчив на просьбы дать интервью, написать рецензию, рекомендацию. И в этих его работах - масса тонких мыслей, наблюдений, оценок.
Настоящее издание, в которое вошли интервью, беседы, диалоги Вадима Кожинова и воспоминания о нем современников, подготовлено к его 75-летию.
Вадим Кожинов
"Правда сталинских репрессий"
Издательство: Эксмо, Алгоритм
Год: 2005
ISBN 5-699-13825-0
Тираж: 4100 экз.
Формат: 84x108/32
Твердый переплет, 448 стр.
Аннотация издательства
Эту книгу Вадима Кожинова, как и другие его работы отличают неординарность суждений и неожиданность выводов. С фактами и цифрами в руках он приступил к исследованию тем, на которые до сих пор наложено демократическое "табу": о роли евреев в истории Советского Союза, об истинных пружинах сталинских репрессий. При этом одним из главных достоинств его исследований является историческая объективность.
Ниже мы приводим часть Главы 1 из книги В. Кожинова (с сокращениями; сноски сняты).
Что же в действительности произошло в 1917 году?
На этот вопрос за восемьдесят лет были даны самые различные, даже прямо противоположные ответы, и сегодня они более или менее знакомы внимательным читателям. Но остаётся почти неизвестной либо преподносится в крайне искажённом виде точка зрения черносотенцев, их ответ на этот нелёгкий вопрос.
Черносотенцы, не ослеплённые иллюзорной идеей прогресса, задолго до 1917 года ясно предвидели действительные плоды победы Революции, далеко превосходя в этом отношении каких-либо иных идеологов (так, член Главного совета Союза русского народа П.Ф. Булацель провидчески – хотя и тщетно – взывал в 1916 году к либералам: "Вы готовите могилу себе и миллионам ни в чём не повинных граждан"). Естественно предположить, что и непосредственно в 1917-м, и в последующих годах "черносотенцы" глубже и яснее, чем кто-либо, понимали происходящее, и потому их суждения имеют первостепенное значение.
Начать уместно с того, что сегодня явно господствует мнение о большевистском перевороте 25 октября (7 ноября) 1917 года как о роковом акте уничтожения Русского государства, который, в свою очередь, привёл к многообразным тяжелейшим последствиям, начиная с распада страны. Но это заведомая неправда, хотя о ней вещали и вещают многие влиятельные идеологи. Гибель Русского государства стала необратимым фактом уже 2(15) марта 1917 года, когда был опубликован так называемый "приказ № 1". Он исходил от Центрального исполнительного комитета (ЦИК) Петроградского – по существу Всероссийского Совета рабочих и солдатских депутатов, где большевики до сентября 1917 года ни в коей мере не играли руководящей роли; непосредственным составителем "приказа" был секретарь ЦИК, знаменитый тогда адвокат Н.Д. Соколов (1870-1928), сделавший ещё в 1900-х годах блистательную карьеру на многочисленных политических процессах, где он главным образом защищал всяческих террористов. Соколов выступал как "внефракционный социал-демократ".
"Приказ № 1", обращённый к армии, требовал, в частности, "немедленно выбрать комитеты из выборных представителей (торопливое составление текста привело к назойливому повтору: "выбрать... из выборных". – В.К. ) от нижних чинов... Всякого рода оружие... должно находиться в распоряжении... комитетов и ни в коем случае не выдаваться офицерам... Солдаты ни в чём не могут быть умалены в тех правах, коими пользуются все граждане..." и т.д.
Если вдуматься в эти категорические фразы, станет ясно, что дело шло о полнейшем уничтожении созданной в течение столетий армии – станового хребта государства; одно уже демагогическое положение о том, что "свобода" солдата не может быть ограничена "ни в чём", означало ликвидацию самого института армии. Не следует забывать к тому же, что "приказ" отдавался в условиях грандиозной мировой войны и под ружьём в России было около одиннадцати миллионов человек; кстати, последний военный министр Временного правительства А.И. Верховский свидетельствовал, что "приказ № 1" был отпечатан "в девяти миллионах экземпляров"!
Для лучшего понимания ситуации следует обрисовать обстоятельства появления "приказа". 2 марта Соколов явился с его текстом, – который уже был опубликован в утреннем выпуске "Известий Петроградского Совета", – перед только что образованным Временным правительством. Один из его членов, В.Н. Львов, рассказал об этом в своём мемуаре, опубликованном вскоре же, в 1918 году:
"...быстрыми шагами к нашему столу подходит Н.Д. Соколов и просит нас познакомиться с содержанием принесённой им бумаги... Это был знаменитый приказ номер первый... После его прочтения Гучков (военный министр. - В.К.) немедленно заявил, что приказ... немыслим, и вышел из комнаты. Милюков (министр иностранных дел. – В.К.) стал убеждать Соколова в совершенной невозможности опубликования этого приказа (он не знал, что газету с его текстом уже начали распространять. – В.К.)... Наконец и Милюков в изнеможении встал и отошёл от стола... я (то есть В.Н. Львов, обер-прокурор Синода. – В.К. ) вскочил со стула и со свойственной мне горячностью закричал Соколову, что эта бумага, принесённая им, есть преступление перед родиной... Керенский (тогда – министр юстиции, с 5 мая – военный министр, а с 8 июля – глава правительства. – В.К.) подбежал ко мне и закричал: "Владимир Николаевич, молчите, молчите!", затем схватил Соколова за руку, увёл его быстро в другую комнату и запер за собой дверь..."
А став 5 мая военным министром, Керенский всего через четыре дня издал свой "Приказ по армии и флоту", очень близкий по содержанию к Соколовскому; его стали называть "декларацией прав солдата". Впоследствии генерал А.И. Деникин писал, что "эта "декларация прав"... окончательно подорвала все устои армии". Впрочем, ещё 16 июля 1917 года, выступая в присутствии Керенского (тогда уже премьера), Деникин не без дерзости заявил: "Когда повторяют на каждом шагу (это, кстати, характерно и для наших дней. – В.К.), что причиной развала армии послужили большевики, я протестую. Это неверно. Армию развалили другие..." Не считая, по-видимому, "тактичным" прямо назвать имена виновников, генерал сказал далее: "Развалило армию военное законодательство последних месяцев"; присутствующие ясно понимали, что "военными законодателями" были Соколов и сам Керенский (кстати, в литературе есть неправильные сведения, что Деникин будто бы всё же назвал тогда имя Керенского).
Но нельзя не сказать, что "прозрение" Деникина фатально запоздало. Ведь согласился же он 5 апреля (то есть через месяц с лишним после опубликования приказа № 1) стать начальником штаба Верховного главнокомандующего, а 31 мая (то есть вслед за появлением "декларации прав солдата") – главнокомандующим Западным фронтом. Лишь 27 августа генерал порвал с Керенским, но армии к тому времени уже, в сущности, не было...
Необходимо вглядеться в фигуру Соколова. Ныне о нём знают немногие. Характерно, что в изданном в 1993 году биографическом словаре "Политические деятели России. 1917" статьи о Соколове нет, хотя там представлено более 300 лиц, сыгравших ту или иную роль в 1917 году (большинство из них с этой точки зрения значительно уступают Соколову). Впрочем, и в 1917 году его властное воздействие на ход событий казалось не вполне объяснимым. Так, автор созданного по горячим следам и наиболее подробного рассказа о 1917 годе (и сам активнейший деятель того времени) Н.Н. Суханов-Гиммер явно удивлялся, как он писал, "везде бывавшему и всё знающему Н.Д. Соколову, одному из главных работников первого периода революции". Лишь гораздо позднее стало известно, что Соколов, как и Керенский, был одним из руководителей российского масонства тех лет, членом его немногочисленного "Верховного совета" (Суханов, кстати сказать, тоже принадлежал к масонству, но занимал в нём гораздо более низкую ступень). Нельзя не отметить также, что Соколов в своё время положил начало политической карьере Керенского (тот был одиннадцатью годами моложе), устроив ему в 1906 году приглашение на громкий процесс над прибалтийскими террористами, после которого этот тогда безвестный адвокат в одночасье стал знаменитостью.
Выдвигая "приказ № 1", Соколов, разумеется, не предвидел, что его детище менее чем через четыре месяца в буквальном смысле ударит по его собственной голове. В июне Соколов возглавил делегацию ЦИК на фронт. "В ответ на убеждение не нарушать дисциплины солдаты набросились на делегацию и зверски избили её", – рассказывал тот же Суханов; Соколова отправили в больницу, где он "лежал... не приходя в сознание несколько дней... Долго, долго, месяца три после этого он носил белую повязку – "чалму" – на голове".
Между прочим, на это событие откликнулся поэт Александр Блок. 29 мая он встречался с Соколовым и написал о нём: "...остервенелый Н.Д. Соколов, по слухам, автор приказа № 1", а 24 июня - пожалуй, не без иронии – отметил: "В газетах: "тёмные солдаты" побили Н.Д. Соколова". Позже, 23 июля, Блок делает запись о допросе в "Чрезвычайной следственной комиссии" при Временном правительстве виднейшего черносотенца Н.Е. Маркова: "Против Маркова... сидит Соколов с завязанной головой... лает вопросы... Марков очень злится..."
Соколов, как мы видим, был необычайно энергичен, а круг его деятельности - исключительно широк. И таких людей в российском масонстве того времени было достаточно много. Вообще, говоря о Февральском перевороте и дальнейшем ходе событий, никак невозможно обойтись без "масонской темы". Эта тема особенно важна потому, что о масонстве ещё до 1917 года немало писали и говорили черносотенцы; в этом, как и во многом другом, выразилось их превосходство над любыми тогдашними идеологами, которые "не замечали" никаких признаков существования масонства в России или даже решительно оспаривали суждения на этот счёт черносотенцев, более того – высмеивали их.
Только значительно позднее, уже в эмиграции, стали появляться материалы о российском масонстве – скупые признания его деятелей и наблюдения близко стоявших к ним лиц; впоследствии, в 1960-1980 годах, на их основе был написан ряд работ эмигрантских и зарубежных историков. В СССР эта тема до 1970-х годов, в сущности, не изучалась (хотя ещё в 1930 году были опубликованы весьма многозначительные – пусть и предельно лаконичные – высказывания хорошо информированного В.Д. Бонч-Бруевича).
Рассказать об изучении российского масонства XX века необходимо, между прочим, и потому, что многие сегодня знают о нём, но знания эти обычно крайне расплывчаты или просто ложны, представляя собой смесь вырванных из общей картины фактов и досужих вымыслов.
А между тем за последние два десятилетия это масонство изучалось достаточно успешно и вполне объективно.
Первой работой, в которой был всерьёз поставлен вопрос об этом масонстве, явилась книга Н.Н. Яковлева "1 августа 1914", изданная в 1974 году. В ней, в частности, цитировалось признание видного масона, кадетского депутата Думы, а затем комиссара Временного правительства в Одессе Л.А. Велихова: "В 4-й Государственной думе (избрана в 1912 году. – В.К.) я вступил в так называемое масонское объединение, куда входили представители от левых прогрессистов (Ефремов), левых кадетов (Некрасов, Волков, Степанов), трудовиков (Керенский), с.-д. меньшевиков (Чхеидзе, Скобелев) и которое ставило своей целью блок всех оппозиционных партий Думы для свержения самодержавия".
И к настоящему времени неопровержимо доказано, что российское масонство XX века, начавшее свою историю еще в 1906 году, явилось решающей силой Февраля прежде всего именно потому, что в нем слились воедино влиятельные деятели различных партий и движений, выступавших на политической сцене более или менее разрозненно. Скреплённые клятвой перед своим и одновременно высокоразвитым западноевропейским масонством (о чём ещё пойдёт речь), эти очень разные, подчас, казалось бы, совершенно несовместимые деятели – от октябристов до меньшевиков – стали дисциплинированно и целеустремлённо осуществлять единую задачу. В результате был создан своего рода мощный кулак, разрушивший государство и армию.
Наиболее плодотворно исследовал российское масонство XX века историк В.И. Старцев, который вместе с тем является одним из лучших исследователей событий 1917 года в целом. В ряде его работ, первая из которых вышла в свет в 1978 году, аргументирование раскрыта истинная роль масонства. Содержательны и страницы, посвящённые российскому масонству XX века в книге Л П. Замойского (см. библиографию в примечаниях).
Позднее, в 1986 году, в Нью-Йорке была издана книга эмигрантки Н.Н. Берберовой "Люди и ложи. Русские масоны XX столетия", опиравшаяся, в частности, и на исследования В.И. Старцева (Н.Н. Берберова сама сказала об этом на 265-266 стр. своей книги - не называя, правда, имени В.И. Старцева, чтобы не "компрометировать" его). С другой стороны, в этой книге широко использованы, в сущности, недоступные тогда русским историкам западные архивы и различные материалы эмигрантов. Но надо прямо сказать, что многие положения книги Н.Н. Берберовой основаны на не имеющих действительной достоверности записках и слухах, и вполне надёжные сведения перемешаны с по меньшей мере сомнительными (о некоторых из них ещё будет сказано).
Работы В.И. Старцева, как и книга Н.К Яковлева, с самого момента их появления и вплоть до последнего времени подвергались очень резким нападкам; историков обвиняли главным образом в том, что они воскрешают черносотенный миф о масонах (особенно усердствовал "академик И.И. Минц"). Между тем историки с непреложными фактами в руках доказали (вольно или невольно), что "черносотенцы" были безусловно правы, говоря о существовании деятельнейшего масонства в России и об его огромном влиянии на события, хотя при всём при том В.И. Старцев – и вполне понятно, почему он это делал, – не раз "отмежевывался" от проклятых черносотенцев.
Нельзя, правда, не оговорить, что в черносотенных сочинениях о масонстве очень много неверных и даже фантастических моментов. Однако ведь в те времена масоны были самым тщательным образом законспирированы; российская политическая полиция, которой ещё П.А. Столыпин дал указание расследовать деятельность масонства, не смогла добыть о нём никаких существенных сведений. Поэтому странно было бы ожидать от черносотенцев точной и непротиворечивой информации о масонах. По-настоящему значителен уже сам по себе тот факт, что "черносотенцы" осознавали присутствие и мощное влияние масонства в России.
Решающая его роль в Феврале обнаружилась со всей очевидностью, когда – уже в наше время – было точно выяснено, что из 11 членов Временного правительства первого состава 9 (кроме А.И. Гучкова и П.Н. Милюкова) были масонами. В общей же сложности на постах министров побывало за почти восемь месяцев существования Временного правительства 29 человек, и 23 из них принадлежали к масонству!
Ничуть не менее важен и тот факт, что в тогдашней "второй власти" – ЦИК Петроградского Совета – масонами являлись все три члена президиума: А.Ф. Керенский, М.И. Скобелев и Н.С. Чхеидзе – и два из четверых членов Секретариата: К.А. Гвоздев и уже известный нам Н.Д. Соколов (двое других секретарей Совета – К.С. Гриневич-Шехтер и Г.Г. Панков - не играли первостепенной роли). Поэтому так называемое двоевластие после Февраля было весьма относительным, в сущности, даже показным: и в правительстве, и в Совете заправляли люди "одной команды"...
Представляет особенный интерес тот факт, что трое из шести членов Временного правительства, которые не принадлежали к масонству (во всяком случае, нет бесспорных сведений о такой принадлежности), являлись наиболее общепризнанными, "главными" лидерами своих партий: это А.И. Гучков (октябрист), П.Н. Милюков (кадет) и В.М. Чернов (эсер). Не был масоном и "главный" лидер меньшевиков Л. Мартов (Ю.О. Цедербаум). Между тем целый ряд других влиятельнейших – хотя и не самых популярных – лидеров этих партий занимал высокое положение и в масонстве, – например, октябрист С.И. Шидловский, кадет В.А. Маклаков, эсер Н.Д. Авксентьев, меньшевик Н.С. Чхеидзе (и, конечно, многие другие).
Это объясняется, на мой взгляд, тем, что такие находившиеся ещё до 1917 года под самым пристальным вниманием общества и правительства лица, как Гучков или Милюков, легко могли быть разоблачены, и их не ввели в масонские "кадры" (правда, некоторые авторы объясняют их непричастность к масонству тем, что тот же Милюков, например, не хотел подчиняться масонской дисциплине). Н.Н. Берберова пыталась доказать, что Гучков всё же принадлежал к масонству, но ее доводы недостаточно убедительны. Однако вместе с тем В.И. Старцев совершенно справедливо говорит, что Гучков "был окружён масонами со всех сторон" и что, в частности, заговор против царя, приготовлявшийся с 1915 года, осуществляла "группа Гучкова, в которую входили виднейшие и влиятельнейшие руководители российского политического масонства Терещенко и Некрасов... и заговор этот был все-таки масонским" ("Вопросы истории", 1989, №6, с. 44).
Подводя итог, скажу об особой роли Керенского и Соколова, как я её понимаю. И для того, и для другого принадлежность к масонству была гораздо важнее, чем членство в каких-либо партиях. Так, Керенский в 1917 году вдруг перешёл из партии "трудовиков" в эсеры. Соколов же, как уже сказано, представлялся "внефракционным" социал-демократом. А во-вторых, для Керенского, сосредоточившего свою деятельность во Временном правительстве, Соколов был, по-видимому, главным сподвижником во "второй" власти – Совете. Многое говорят позднейшие (1927 года) признания Н.Д. Соколова о необходимости масонства в революционной России: "...радикальные элементы из рабочих и буржуазных классов не смогут с собой сговориться о каких-либо общих актах, выгодных обеим сторонам... Поэтому... создание органов, где представители таких радикальных элементов из рабочих и не рабочих классов могли бы встречаться на нейтральной почве... очень и очень полезно..." И он, Соколов, "давно, ещё до 1905 г., старался играть роль посредника между социал-демократами и либералами".
Масонам в Феврале удалось быстро разрушить государство, но затем они оказались совершенно бессильными и менее чем через восемь месяцев потеряли власть, не сумев оказать, по сути дела, ровно никакого сопротивления новому, Октябрьскому, перевороту. Прежде чем говорить о причине бессилия героев Февраля, нельзя не коснуться господствовавшей в советской историографии версии, согласно которой переворот в феврале 1917 года был якобы делом петроградских рабочих и солдат столичного гарнизона, будто бы руководимых к тому же главным образом большевиками.
Начну с последнего пункта. Во время переворота в Петрограде почти не было сколько-нибудь влиятельных большевиков. Поскольку они выступали за поражение в войне , они вызвали всеобщее осуждение и к февралю 1917 года пребывали или в эмиграции в Европе и США, или в далёкой ссылке, не имея сколько-нибудь прочной связи с Петроградом. Из 29 членов и кандидатов в члены большевистского ЦК, избранного на VI съезде (в августе 1917 года), ни один не находился в февральские дни в Петрограде! И сам Ленин, как хорошо известно, не только ничего не знал о готовящемся перевороте, но и ни в коей мере не предполагал, что он вообще возможен.
Что же касается массовых рабочих забастовок и демонстраций, начавшихся 23 февраля, они были вызваны недостатком и невиданной дороговизной продовольствия, в особенности хлеба, в Петрограде. Но дефицит хлеба в столице был, как следует из фактов, искусственно организован. В исследовании Т.М. Китаниной "Война, хлеб, революция (продовольственный вопрос в России. 1914 – октябрь 1917)", изданном в 1985 году в Ленинграде, показано, что "излишек хлеба (за вычетом объёма потребления и союзных поставок) в 1916 г. составил 197 млн. пуд." (с. 219); исследовательница ссылается, в частности, на вывод A.M. Анфимова, согласно которому "Европейская Россия вместе с армией до самого урожая 1917 г. могла бы снабжаться собственным хлебом, не исчерпав всех остатков от урожаев прошлых лет" (с. 338). И в уже упомянутой книге Н.Н. Яковлева "1 августа 1914" основательно говорится о том, что заправилы Февральского переворота "способствовали созданию к началу 1917 года серьёзного продовольственного кризиса... Разве не прослеживается синхронность – с начала ноября резкие нападки (на власть. – В.К. ) в Думе и тут же крах продовольственного снабжения!".
Иначе говоря, "хлебный бунт" в Петрограде, к которому вскоре присоединились солдаты "запасных полков", находившихся в столице, был специально организован и использован главарями переворота.
Не менее важно и другое. На фронте постоянно испытывали нехватку снарядов. Однако к 1917 году на складах находилось 30 миллионов (!) снарядов – примерно столько же, сколько было всего истрачено за 1914-1916-е годы (между прочим, без этого запаса артиллерия в Гражданскую войну 1918-1920 годов, когда заводы почти не работали, вынуждена была бы бездействовать...). Если учесть, что начальник Главного артиллерийского управления в 1915 – феврале 1917 г. А.А. Маниковский был масоном и близким сподвижником Керенского, ситуация становится ясной; факты эти изложены в упомянутой книге Н.Н. Яковлева (см. с. 195-201).
То есть и резкое недовольство в армии, и хлебный бунт в Петрограде, в сущности, были делом рук "переворотчиков". Но этого мало. Фактически руководивший армией начальник штаба Верховного главнокомандующего (то есть Николая II) генерал М.В. Алексеев не только ничего не сделал для отправления 23-27 февраля войск в Петроград с целью установления порядка, но и, со своей стороны, использовал волнения в Петрограде для самого жёсткого давления на царя и, кроме того, заставил его поверить, что вся армия – на стороне переворота.
Н.Н. Берберова в своей книге утверждает, что Алексеев сам принадлежал к масонству. Это вряд ли верно (хотя бы потому, что для военнослужащих вступление в тайные организации являлось, по существу, преступным деянием). Но вместе с тем находившийся в Ставке Верховного главнокомандующего военный историк Д.Н. Дубенский свидетельствовал в своём изданном ещё в 1922 году дневнике-воспоминаниях: "Генерал Алексеев пользовался... самой широкой популярностью в кругах Государственной Думы, с которой находился в полной связи... Ему глубоко верил Государь... генерал Алексеев мог и должен был принять ряд необходимых мер, чтобы предотвратить революцию... У него была вся власть (над армией. – В.К.)... К величайшему удивлению... с первых же часов революции выявилась его преступная бездеятельность..." (цит. по кн.: Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев. – Л., 1927, с. 43).
Далее Д.Н. Дубенский рассказывал, как командующий Северным фронтом генерал Н.В. Рузский (Н.Н. Берберова тоже не вполне обоснованно считает его масоном) "с цинизмом и грубою определённостью" заявил уже 1 марта: "..надо сдаваться на милость победителю". Эта фраза, писал Д.Н. Дубенский, "всё уяснила и с несомненностью указывала, что не только Дума, Петроград, но и лица высшего командования на фронте действуют в полном согласии и решили произвести переворот" (с. 61). И историк вспоминал, как уже 2 марта близкий к черносотенцам генерал-адъютант К.Д. Нилов назвал Алексеева "предателем", и сделал такой вывод: "...масонская партия захватила власть". Подобные утверждения в течение долгих лет квалифицировались как черносотенные выдумки, но ныне отнюдь не черносотенные историки доказали правоту этого вывода.
Впрочем, к фигуре генерала Алексеева мы ещё вернемся. Прежде необходимо осознать, что российские масоны были до мозга костей западниками. При этом они не только усматривали все свои общественные идеалы в Западной Европе, но и подчинялись тамошнему могучему масонству. Побывавший в масонстве Г.Я. Аронсон писал: "Русские масоны как бы светили заёмным светом с Запада". И Россию они всецело мерили чисто западными мерками.
По свидетельству А.И. Гучкова, герои Февраля полагали, что "после того как дикая стихийная анархия, улица (имелись в виду февральские беспорядки в Петрограде. – В.К.), падёт, после этого люди государственного опыта, государственного разума, вроде нас, будут призваны к власти. Очевидно, в воспоминание того, что... был 1848 год (то есть революция во Франции. – В.К.): рабочие свалили, а потом какие-то разумные люди устроили власть" ("Вопросы истории", 1991, № 7, с. 204).
Гучков определил этот "план" словом "ошибка". Однако перед нами не столько конкретная "ошибка", сколько результат полного непонимания России. И Гучков к тому же явно неверно характеризовал сам ход событий. Ведь, согласно его словам, "стихийная анархия" – это забастовки и демонстрации, состоявшиеся с 23 по 27 февраля в Петрограде; 27 февраля был образован "Временный комитет членов Государственной Думы", а 2 марта – Временное правительство. Но ведь именно оно и осуществило полное уничтожение прежнего государства. То есть настоящая "стихийная анархия", охватившая в конечном счёте всю страну и всю армию (а не всего лишь несколько десятков тысяч людей в Петрограде, действия которых были ловко использованы героями Февраля), разразилась уже потом, когда к власти пришли эти самые "разумные люди"...
Словом, российские масоны представляли себе осуществляемый ими переворот как нечто вполне подобное революциям во Франции или Англии, но при этом забывали о поистине уникальной русской свободе – "свободе духа и быта" , о которой постоянно размышлял, в частности, "философ свободы" Н.А. Бердяев. В западноевропейских странах даже самая высокая степень свободы в политической и экономической деятельности не может привести к роковым разрушительным последствиям, ибо большинство населения ни под каким видом не выйдет за установленные "пределы" свободы, будет всегда "играть по правилам". Между тем в России безусловная, ничем не ограниченная свобода сознания и поведения – то есть, говоря точнее, уже, в сущности, не свобода (которая подразумевает определённые границы, рамки "закона"), а собственно российская воля вырывалась на простор чуть ли не при каждом существенном ослаблении государственной власти и порождала неведомые Западу безудержные русские "вольницы" – болотниковщину (в пору Смутного времени), разинщину, пугачёвщину, махновщину, антоновщину и т.п.
Пушкин, в котором наиболее полно и совершенно воплотился русский национальный гений, начиная по меньшей мере с 1824 года испытывал самый глубокий и острый интерес к этим явлениям, более всего, естественно, к недавней пугачёвщине, которой он и посвятил свои главные творения в сфере художественной прозы ("Капитанская дочка", 1836) и историографии ("История Пугачёва", вышедшая в свет в конце 1834 года под заглавием – по предложению финансировавшего издание Николая I – "История Пугачёвского бунта"). При этом Пушкин предпринял весьма трудоёмкие архивные изыскания, а в 1833 году в течение месяца путешествовал по "пугачёвским местам", расспрашивая, в частности, престарелых очевидцев событий 1773-1775 годов.
Но дело, конечно, не просто в тщательности исследования предмета; Пушкин воссоздал пугачёвщину с присущим ему и, без преувеличения, только ему всепониманием. Позднейшие толкования, в сравнении с пушкинским, односторонни и субъективны. Более того: столь же односторонни и субъективны толкования самих творений Пушкина, посвящённых пугачёвщине (яркий пример – эссе Марины Цветаевой "Пушкин и Пугачёв"). Исключение представляет, пожалуй, лишь недавняя работа В.Н. Катасонова ("Наш современник", 1994, № 1), где пушкинский образ Пугачёва осмыслен в его многомерности. Говоря попросту, пугачёвщину после Пушкина либо восхваляли, либо проклинали. Особенно это характерно для эпохи Революции, когда о пугачёвщине (а также о разинщине и т.п.) вспоминали едва ли не все тогдашние идеологи и писатели.
Ныне постоянно цитируют пушкинские слова: "Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный", – причём они обычно толкуются как чисто отрицательная, даже уничтожающая характеристика. Но это не столь уж простые по смыслу слова. Они, между прочим, как-то перекликаются с приведёнными Пушкиным удивительными словами самого Пугачёва (их сообщил следователь, первым допросивший выданного своими сподвижниками атамана, – капитан-поручик Маврин): "Богу было угодно наказать Россию через моё окаянство". И в том и в другом высказывании "русский бунт" – то есть своеволие – как-то связывается с волей Бога, который "привёл" увидеть или "наказал", – и в целостном контексте пушкинского воссоздания пугачёвщины это так и есть.
Кроме того, поставив определения "бессмысленный и беспощадный" после определяемого слова, Пушкин тем самым придал им особенную ёмкость и весомость; нас как бы побуждают вглядеться, вслушаться в эти определения и осознать их многозначность. "Бессмысленный" – это ведь значит и бесцельный, самоцельный и, значит, бескорыстный. А особенное ударение на завершающем слове "беспощадный" – разумеется, в связи с пушкинским воссозданием пугачёвщины в целом – несёт в себе смысл ничем не ограниченной беспощадности, естественно обращающейся и на самих бунтовщиков, и на их вожака, выданного в конце концов на расправу "своими". Это скорее Божья кара, чем собственно человеческая жестокость.
Пушкин обратил внимание на своего рода тайну. Он рассказал, что в конце июля 1774 года, то есть всего за несколько недель до ареста, Пугачёв, "окружённый отовсюду войсками правительства, не доверяя своим сообщникам... уже думал о своём спасении; цель его была: пробраться за Кубань или в Персию". Но, как это ни странно, "никогда мятеж не свирепствовал с такою силою. Возмущение переходило от одной деревни к другой, от провинции к провинции... Составлялись отдельные шайки... и каждая имела у себя своего Пугачева..." Словом, "русский бунт" – это по сути своей не чьё-либо конкретное действие, но своего рода состояние, вдруг захватившее весь народ, – ничему и никому не подчиняющаяся стихия, подобная лесному пожару...
Безудержный "русский бунт" вызывал и вызывает совершенно разные "оценки". Одни усматривают в нём проявление беспрецедентной свободы, извечно присущей (хотя и не всегда очевидной) России, другие, напротив, – выражение её "рабской" природы: "бессмысленность" бунта свойственна, мол, заведомым рабам, которые даже и в восстании не способны добиваться удовлетворения конкретных практических интересов (как это делают, скажем, западноевропейские повстанцы) и бунтуют, в сущности, только ради самого бунта...
Но подобные одноцветные оценки столь грандиозных национально-исторических явлений вообще не заслуживают серьёзного внимания, ибо характеризуют лишь настроенность тех, кто эти оценки высказывает, а не сам оцениваемый "предмет". События, которые так или иначе захватывают народ в целом, с необходимостью несут в себе и зло, и добро, и ложь, и истину, и грех, и святость...
Необходимо отдать себе ясный отчёт в том, что и безоговорочные проклятья, и такие же восхваления "русского бунта" неразрывно связаны с заведомо примитивным и просто ложным восприятием самого "своеобразия" России и, с другой стороны, Запада: в первом случае Россию воспринимают как нечто безусловно "худшее" в сравнении с Западом, во втором – как столь же безусловно "лучшее". Но и то и другое восприятие не имеет действительно серьёзного смысла: спор о том, что "лучше" – Россия или Запад, вполне подобен, скажем, спорам о том, где лучше жить – в лесной или степной местности, и даже кем лучше быть – женщиной или мужчиной... и т.п. Пытаться выставить непротиворечивые "оценки" тысячелетнему бытию и России, и Запада – занятие для идеологов, не доросших до зрелого мышления.
Впрочем, пора обратиться непосредственно к 1917 году. Как уже сказано, пугачёвщина и разинщина постоянно вспоминались в то время, что было вполне естественно. Вместе с тем на сей раз последствия были совсем иными, чем при Пугачёве, ибо бунтом была захвачена и до основания разложенная новыми правителями армия (которая во время пугачёвщины всё-таки сохранилась – пусть и было немало случаев перехода солдат и даже офицеров в ряды бунтовщиков). Более того, миллионы солдат, самовольно покидавших – нередко с оружием в руках – армию, шли наиболее действенной закваской всеобщего бунта.
Советская историография пыталась доказывать, что-де основная масса "бунтовщиков" – в том числе солдаты – боролась в 1917 году против "буржуазного" Временного правительства за победу большевиков, за социализм-коммунизм. Но это явно не соответствует действительности. Генерал Деникин, досконально знавший факты, говоря в своих фундаментальных "Очерках русской смуты" о самом широком распространении большевистской печати в армии, вместе с тем утверждал: "Было бы, однако, неправильно говорить о непосредственном влиянии печати на солдатскую массу. Его не было... Печать оказывала влияние главным образом на полуинтеллигентскую (весьма незначительную количественно. – В.К.) часть армейского состава". Что же касается миллионов рядовых солдат, то в их сознании, констатировал генерал, "преобладало прямолинейное отрицание: "Долой!" Долой... вообще все опостылевшее, надоевшее, мешающее так или иначе утробным инстинктам и стесняющее "свободную волю" – всё долой!".
Нельзя не отметить прямое противоречие в этом тексте: Деникин определяет бунт солдат и как проявление "утробных инстинктов" – то есть как нечто низменное, телесное, животное, и в то же время как порыв к "свободной воле" (для определения этого феномена оказались как бы недостаточными взятые по отдельности слова "свобода" и "воля", и генерал счёл нужным соединить их, явно стремясь тем самым выразить нечто "беспредельное"; ср. народное словосочетание "воля вольная"). Но "утробные инстинкты" (например, животный страх перед гибелью) и стремление к безграничной "воле" – это, конечно же, совершенно различные явления; второе подразумевает, в частности, преодоление смертного страха... Таким образом, Деникин, едва ли сознавая это, дал солдатскому бунту и своего рода "высокое" толкование.
Не исключено возражение, что Деникин, мол, исказил реальную картину, ибо не желал признавать внушительную роль ненавистных ему большевиков. Однако, в сущности, то же самое говорил в своих воспоминаниях генерал от кавалерии (с 1912 года) А.А. Брусилов, перешедший, в отличие от Деникина, на сторону большевиков. Бунтовавшие в 1917 году солдатские массы, свидетельствовал генерал, "совершенно не интересовал Интернационал, коммунизм и тому подобные вопросы, они только усвоили себе начала будущей свободной жизни".
Следует привести ещё мнение одного серьёзно размышлявшего человека, который, по-видимому, не участвовал в революционных событиях, был только "страдающим" лицом, в конце концов бежавшим на Запад. Речь идёт о российском немце М.М. Гаккебуше (1875-1929), издавшем в 1921 году в Берлине книжку с многозначительным заглавием "На реках Вавилонских: заметки беженца"; при этом он издал её под таким же многозначительным псевдонимом М. Горелов, явно не желая и теперь, в эмиграции, вмешивать себя лично в политические распри.
В книжке немало всякого рода эмоциональных оценок "беженца", но есть и достаточно чёткое определение совершившегося. Напоминая, в частности, о том, что Достоевский называл русский народ "богоносцем", Гаккебуш-Горелов писал, что в 1917 году "мужик снял маску... "Богоносец" выявил свои политические идеалы: он не признаёт никакой власти, не желает платить податей и не согласен давать рекрутов. Остальное его не касается".
Тут же "беженец" ставил пресловутый вопрос "кто виноват?" в этом мужицком отрицании власти: "Виноваты все мы – сам-то народ меньше всех. Виновата династия, которая наиболее ей, казалось бы, дорогой монархический принцип позволила вывалять в навозе; виновата бюрократия, рабствовавшая и продажная; духовенство, забывшее Христа и обратившееся в рясофорных жандармов; школа, оскоплявшая молодые души; семья, развращавшая детей, интеллигенция, оплёвывавшая родину..." (напомню, что В.В. Розанов ещё в 1912 году писал: "У француза – "chere France", у англичан - "Старая Англия". У немцев – "наш Старый Фриц". Только у прошедшего русскую гимназию и университет – "проклятая Россия". Как же удивляться, что всякий русский с 16-ти лет пристаёт к партии "ниспровержения" государственного строя...").
Итак, совместные действия различных сил (Гаккебуш обвиняет и саму династию...) развенчали Русское государство, и в конце концов оно было разрушено. И тогда "мужик" отказалсяот подчинения какой-либо власти, избрав ничем не ограниченную "волю". Гаккебуш был убеждён, что тем самым "мужик" целиком и полностью разоблачил мнимость представления о нём как о "богоносце". И хотя подобный приговор вынесли вместе с этим малоизвестным автором многие из самых влиятельных тогдашних идеологов, проблема всё-таки более сложна. Ведь тот, кто не признаёт никакой земной власти, открыт тем самым для "власти" Бога...
Один из виднейших художников слова того времени, И.А. Бунин, записал в своём дневнике (в 1935 году он издал его под заглавием "Окаянные дни") 11(24) июня 1919 года, что "всякий русский бунт (и особенно теперешний) прежде всего доказывает, до чего всё старо на Руси и сколь она жаждет прежде всего бесформенности. Спокон веку были "разбойнички"... бегуны, шатуны, бунтари против всех и вся..." (кстати, Бунин в избранном им для своего дневника заглавии перекликнулся – вероятно, не осознавая этого – с приведёнными Пушкиным словами Пугачёва: "Богу было угодно наказать Россию через моё окаянство"). В полнейшем непонимании извечного русского "своеобразия" Бунин усматривает роковой просчет политиков: "Ключевский отмечает чрезвычайную "повторяемость" русской истории. К великому несчастию, на эту "повторяемость" никто и ухом не вёл. "Освободительное движение" творилось с легкомыслием изумительным, с непременным, обязательным оптимизмом...". Став и свидетелем, и жертвой безудержного "русского бунта", Бунин яростно проклинал его. Но, как истинный художник, не могущий не видеть всей правды, он ясно высказался – как бы даже против своей воли – о сугубой "неоднозначности" (уж воспользуюсь популярным ныне словечком) этого бунта. Казалось бы, он резко разграничил два человеческих "типа", отделив их даже этнически:
"Есть два типа в народе. В одном преобладает Русь, в другом – Чудь и Меря" (как бы не желая целиком и полностью проклинать свою до боли любимую Русь, писатель едва ли хоть сколько-нибудь основательно пытается приписать бунтарскую инициативу "финской крови"...). Однако этот тезис тут же опровергается ходом бунинского размышления: "Но (смотрите – Бунин неожиданно возражает этим "но" себе самому! – В.К.) и в том, и в другом (типе. – В.К.) есть страшная переменчивость настроений, обликов, "шаткость", как говорили в старину. Народ сам сказал про себя: "из нас, как из дерева, – и дубина, и икона" – в зависимости от обстоятельств, от того, кто это дерево обрабатывает: Сергий Радонежский или Емелька Пугачёв".
Выходит, тезис о "двух типах" неверен: за преподобным Сергием шли такие же русские люди, что и за отлучённым от Церкви Емелькой, и "облик" русских людей зависит от исторических "обстоятельств" (а не от наличия двух "типов"). И в самом деле: заведомо неверно полагать, что в людях, шедших за Пугачёвым, не было внутреннего единства с людьми, которые шли за преподобным Сергием... Бунин говорит о "шаткости", о "переменчивости" народных настроений и обличий, но основа-то была всё-таки та же...
Замечательно, что уже после цитированных дневниковых записей, в 1921 году, Бунин создал одно из чудеснейших своих творений – "Косцы" – поистине непревзойдённый гимн "русскому (конкретно – рязанскому, есенинскому) мужику", где всё же упомянул и о том, что так его ужасало: "...а вокруг – беспредельная родная Русь, гибельная для него, балованного, разве только своей свободой, простором и сказочным богатством" ("гибельная" здесь совершенно точное слово).
Итак, в той беспредельной "воле", которой возжаждал после распада государства и армии народ, было, если угодно, и нечто "богоносное" (вопреки мнению Гаккебуша-Горелова), – хотя весьма немногие идеологи обладали смелостью разглядеть это в "русском бунте".
И всё же, сколько бы ни оспаривали финал созданной в январе 1918 года знаменитой поэмы Александра Блока, где впереди двенадцати "разбойников-апостолов" является не кто иной, как Христос, решение поэта по-своему незыблемо: "Я, – писал он 10 марта 1918 года, – только констатировал факт: если вглядеться в столбы метели на этом пути, то увидишь "Исуса Христа"..."
Достаточно хорошо известно, что образ "русского бунта" в блоковской поэме многие воспринимали (и воспринимают сейчас) как образ большевизма. Это естественно вытекало из широко распространённого, но тем не менее безусловно ложного представления, согласно которому "русский бунт" ХХ века вообще отождествлялся с большевизмом (такое понимание присутствует, в частности, и в бунинских "Окаянных днях", но смысл книги в целом никак не сводим к этому). На деле же – о чём ещё будет подробно сказано – "русский бунт" был самым мощным и самым опасным врагом большевиков.
Оригинал взят у afanarizm в О спорном и бесспорном в наследии Вадима Кожинова
Кожинов и пишущие о нём не раз говорили как о достоинстве, что Вадим Валерианович в советские времена ни разу не цитировал Сталина, Брежнева, не употреблял слова «колхоз», «партия», «социализм», был антикоммунистом… Мне непонятно, чем цитата, скажем, из Сталина хуже или постыдней цитаты из Ленина или Маркса. Суть в том, какие это цитаты и какова их роль в тексте. О той же коллективизации можно и нужно говорить как о преступлении (вспомним трилогию В.Белова или статью М.Лобанова «Освобождение»), а можно как об оправданной необходимости (смотрите, например, интервью В.Кожинова «Цена пережитого» // «Российская Федерация сегодня», 2000, № 21). А употребляются ли при этом слова «колхоз», «социализм» и т.д., не имеет никакого значения.
Игорь Шафаревич в статье «Штрихи к творческому портрету Вадима Валериановича Кожинова» («Наш современник», 1993, № 9) мягко замечает: «В его работах 60-70-х годов встречаются цитаты из Маркса, Энгельса и Ленина как ссылки на авторитеты, выводы которых подкрепляют мысли автора». То есть такое цитирование выполняет защитную функцию, и в этом Шафаревич прав и не прав.
Действительно, у Кожинова есть случаи формального, защитного цитирования, как, например, во втором абзаце статьи «Познание и воля критика» (1975) о книге Петра Палиевского «Пути реализма». Вадим Валерианович сводит в этом абзаце идеалиста Гегеля и материалиста Ленина, приводя их идеологически безобидные высказывания. Они утяжеляют взгляды Кожинова на назначение критики и книгу Палиевского. Ударное место этих цитат в композиции статьи делает очевидным замысел критика, хотя и без них, видимо, можно было обойтись.
Однако в статьях В.Кожинова 60-80-х годов немало случаев неформального цитирования или ссылок на Ленина, когда создаётся устойчивое впечатление, что критик разделяет транслируемые идеи. Например, в статье о Василии Белове «В поисках истины» (1979) Кожинов доказывает современность писателя через экскурс в историю литературы: «Феликс Кузнецов начал одну из своих недавних статей многозначительным напоминанием: «Вспомним то сокрушительное поражение, которое потерпела русская критика в конце XIX века. <…> Потребовался гений Ленина … чтобы дать научное и объективное истолкование творчества Толстого». И заканчивается этот экскурс соответственно: «И нам необходимо учитывать тот исторический урок, о котором столь уместно напомнил Феликс Кузнецов».
Итак, непонятно, что подтолкнуло Вадима Валериановича через Ф.Кузнецова искать союзника в Ленине, ссылаться на его опыт истолкования Льва Толстого, который положительным не назовёшь. Статьи Ульянова - это редкостный пример убожества мысли и духа, пример кричащего, абсолютного непонимания Льва Толстого.
Вадим Валерианович не раз говорил о своей приобщённости (относительно ранней по советским меркам) к русской религиозной философии, что произошло благодаря Михаилу Бахтину. И сам Кожинов, по словам Владислава Попова, познакомил уже его «с русской религиозной философией (тогда запрещённой официально): с Н.Фёдоровым, В.Розановым, Н.Бердяевым, а потом славянофилами, евразийцами <…>» («Наш современник», 2003, № 7).
Но как тогда Кожинов, если и не окормляемый, то хотя бы находящийся в поле притяжения русской мысли, мог быть солидарен с Лениным по многим вопросам? Солидарен с этим выродком, чудовищем, русофобом, космополитом, сатанистом, разрушителем традиционной России. Более того, сначала в «кулуарах», а затем, со второй половины 80-х годов, в печати Кожинов транслирует мифы о «хорошем» Ленине.
Один из них, миф о Ленине-патриоте, я впервые услышал в мае 1984 года от Юрия Селезнёва. Он, с присущим ему горением, рассказал мне об «утаённом» наследии Ленина… Юрий Иванович не скрывал, что «неизвестный» Ленин - это не его открытие. Однако имя «открывателя» названо не было, да я в этом и не нуждался. Я с трепетным энтузиазмом поверил в сей миф, так как Юрий Иванович был для меня непререкаемым авторитетом.
Когда в статьях В.Кожинова «Сердце отчизны» («Литературная газета», 1985, № 29), «Уроки истории: О ленинской концепции национальной культуры» («Москва», 1986, № 11), «Мы меняемся»?: Полемические заметки о культуре, жизни и «литдеятелях» («Наш современник», 1987, № 10), в его диалоге с Б.Сарновым («Литературная газета», 1989, № 10-13) зазвучала ленинская тема, авторство услышанного от Селезнёва мифа стало для меня очевидным, но суть не в этом. Многие люди поверили, а некоторые, думаю, продолжают верить в красивые сказки о Ленине…
На протяжении последних примерно пятнадцати лет Вадим Валерианович по непонятным для меня причинам пытался русифицировать и отчасти облагородить В.Ульянова. Неубедительно выглядит противопоставление: с одной стороны, Ленин - патриот, сторонник «решения: революция для России», с другой - все остальные, эмигранты, которые «не знали и не могли знать России, и для них она была «в сущности безразличным материалом» (Кожинов В. - Сарнов Б. Россия и революция // «Литературная газета», 1989, № 11).
Для того, чтобы доказать недоказуемое, В.Кожинову приходится проявить верх изобретательности. Оказывается, в доме Ульяновых «господствовала русско-православная атмосфера», как утверждается в книге «Россия. Век ХХ-ый (1901-1939)» (М., 1991). Вадим Валерианович, всегда столь фундаментальный в доказательствах того или иного тезиса, в данном случае ссылается только на свидетельство Анны Ильиничны об отце как о глубоко верующем человеке и на признание Ленина о своей вере в Бога до 16 лет. Эти факты, если даже принять их на веру, думается, ничего не доказывают, ибо семья, в которой царила «русско-православная атмосфера», не могла бы дать столько, и таких, русофобов, человеконенавистников, людоедов.
Для подтверждения версии «Ленин-патриот» годится и ни о чём, на наш взгляд, не свидетельствующее высказывание Ульянова восемнадцатого года: «добиться… чтобы Русь… стала в полном смысле слова могучей и обильной…», и строки из его завещания: «Я советовал бы очень предпринять на этом съезде ряд перемен в нашем политическом строе». Из приведённых слов завещания В.Кожинов делает совершенно неожиданный, необоснованный вывод: «Да, ни много, ни мало - изменение самого «политического строя», но очевидно, что «ряд перемен» не тождествен «изменению самого политического строя».
Трудно согласиться и со следующей версией: в результате осуществления ленинского завещания орган «верховной власти состоял бы в основном из русских». В.Кожинов, как и многие авторы разных направлений, допускает одну логически-сущностную ошибку. Непонятно, как из рабочих и крестьян, людей с обозначенным только социальным статусом, людей, прошедших через партийное сито, можно в итоге получить русских. То, что русскость 75 или 100 рабочих и крестьян Ленин определяет по крови - это естественно, но то, что подобным образом поступает один из лучших знатоков национального вопроса, более чем удивительно.
Отношение В.Кожинова к Сталину менялось на протяжении жизни. Он не раз вспоминал о том, что в школьные годы был юношей, далёким от политики. Однако в МГУ, где Кожинов учился на филфаке, общая атмосфера была такая, что он в короткий срок стал «искренним убеждённым сталинистом», вступил в комсомол… В 60-70-е годы, если судить по статьям и воспоминаниям Вадима Валериановича, культ Сталина остался позади, был положительно преодолён. В годы перестройки тема Сталина зазвучала во многих публикациях Кожинова.
Самый большой резонанс вызвала статья «Правда и истина» («Наш современник», 1988, № 4). В ней автор, в отличие от Анатолия Рыбакова (чей роман «Дети Арбата» был подвергнут доказательной и тотальной критике), говорит о Сталине как порождении российского и мирового революционного и «левого» движения вообще. Эти и другие идеи Кожинова звучали кричащим диссонансом на фоне огромного количества статей, в которых шло развенчание Сталина через противопоставление ему «достойных» коммунистов: Н.Бухарина, С.Кирова, Ф.Раскольникова, М.Рютина, М.Тухачевского и т.д.
Статья Вадима Кожинова была воспринята «левыми» как защита Сталина, в чём упрекали критика авторы от В.Лакшина до Б.Сарнова. В другом контексте эта тема прозвучала в открытом письме Алеся Адамовича Вадиму Кожинову «Как прореживать «морковку» («Огонёк», 1989, № 35). Кожинов в ответном письме «Плод раздражённой фантазии» («Огонёк», 1989, № 41), в частности, утверждал: «Я, например, в отличие от Вас, вообще никогда не употреблял слово «колхозы», так как не имел возможности сказать, что я о «колхозах» думаю.
И последнее. Так как возразить мне Вы, по существу, не можете <…>, Вы, Александр Михайлович, решили не спорить, а создать некий жуткий «образ Вадима Кожинова» - апологета террора, коллективизации, репрессий. Но этот «образ» - плод одной только раздражённой фантазии».
Мифу «левых» о Сталине-злодее, который в 1928-1929 годах совершил контрреволюционный переворот, Кожинов противопоставил идею закономерности, подготовленности явления Сталина и сталинизма. Так, в статье «Самая большая опасность…» Вадим Валерианович утверждал: «… Сталинизм смог восторжествовать потому, что в стране имелись сотни тысяч или даже миллионы абсолютно искренних, абсолютно убеждённых в своей правоте «сталинистов» («Наш современник», 1989, № 1).
В этой и таких статьях, как «Правда и истина» («Наш современник», 1988, № 4), «1948-1988. Мысли и отчасти воспоминания об «изменениях» литературных позиций» («Литературная учёба», 1988, №3), Кожинов называет и характеризует прежде всего тех «сталинистов», которые во времена перестройки в списках «левых» проходили как «антисталинисты». Это Н.Бухарин, С.Киров, Б.Пастернак, А.Твардовский, А.Дементьев и другие.
Вадим Кожинов многочисленными примерами свою точку зрения подтверждает. Я приведу лишь одно его высказывание о Пастернаке: «Он не только безусловно верил в Сталина в 1930-х годах (что явствует, например, из воспоминаний вдовы Осипа Мандельштама), но и во многом сохранял эту веру позднее. Его поэтические книги, изданные в 1943, 1945 и 1948 годах, по своей общей настроенности не противоречили тогдашней литературе в целом, а в прозе он писал, например, во время войны: «Как веками учил здравый смысл и повторял товарищ Сталин, дело правое должно рано или поздно взять верх. Это время пришло. Правда восторжествовала» («Литературная учёба», 1988, № 3).
В статье «К спорам о «русском национальном сознании» (1990) В.Кожинов оценивает Сталина с точки зрения отношения к отечественной истории и литературе. Высказывание Сталина 1934 года о России, которую всю историю «непрерывно били», В.Кожинов называет нелепейшим и иронично комментирует... На приводимых примерах Вадим Валерианович показывает, что позиция Сталина в данном вопросе была созвучна таким русофобам, как Л.Троцкий, Н.Бухарин, И.Эренбург.
В этой статье Кожинов оценивает версию, которая вскоре станет очень популярной, версию о повороте Сталина к патриотизму во второй половине 30-х годов. Эта преимущественно косметически новая политика объясняется Вадимом Валериановичем тактическими и стратегическими соображениями: «... Явно приближавшаяся военная угроза заставляла власти задуматься над тем, что будет защищать народ. Но совершенно ложно представление, согласно которому тогдашние власти действительно «поощряли» подлинное национальное сознание». Эту мысль Кожинов довольно часто подтверждает сведениями о репрессированных писателях. Из пятидесяти «левых», «далёких от русской идеи» авторов было репрессировано двое, из двадцати «неославянофилов» остался в живых лишь Пимен Карпов. Вывод Вадима Валериановича вполне закономерен и справедлив: «Те, кто полагает, что Сталин поддерживал-де «национально мыслящих» русских писателей, должен либо отказаться от этого представления, либо же прийти к выводу, что репрессии против писателей проводил не Сталин».
Показательна полемика Кожинова с Лобановым, возникшая в этой связи через шесть лет. Вадим Валерианович в «Загадке 1937 года» («Наш современник», 1996, № 8) комментирует основные положения статьи Михаила Петровича «Единение. На чём?» («Наш современник», 1996, №7) и критику в свой адрес. В.Кожинов вслед за Ю.Емельяновым утверждает, что отказ от дискредитации всего русского вызван тем, что это вредило развитию мировой революции. А опора на славную русскую историю, имена Дмитрия Донского, Суворова, Ушакова и т.д., политика, которая началась после 1934 года, вызвана не «личными сталинскими представлениями», а «пониманием исторического развития страны». Здесь, конечно, с точки зрения логики, не всё ясно у Кожинова: понимание в представление Сталина не входит?
Очень важное дополнение к теме содержится в интервью Кожинова «Лики и маски истории» («Завтра», 2000, № 27-28). Вновь говоря о повороте середины 30-х годов, Вадим Валерианович подчёркивает его ограниченность, которая выразилась и в том, что данный процесс не касался религиозно-философских истоков русской культуры, «остававшихся под запретом до самого последнего времени».
В работах и интервью В.Кожинова 90-х годов тема Сталина возникает довольно часто, и Вадим Валерианович с постоянством убеждённого человека высказывает, по сути, одни и те же полюбившиеся ему идеи, сопровождая их периодически новой фактической «поддержкой», а иногда и этическими оценками. Так, в беседе с Виктором Кожемяко Кожинов версию о Сталине-патриоте опровергает не совсем частым для себя способом: «Я не могу, скажем, простить ему, что в 1946 году, когда в стране был страшный голод, он бросил огромное количество хлеба в Германию, чтобы подкупить немцев. Есть, конечно, понятие политической целесообразности, но настоящий патриот, по-моему, так поступить всё же не мог» («Правда», 1996, 21 марта).
В интервью с Виктором Кожемяко («Правда», 1996, 21 марта) и беседе с Алексеем Зименковым («Подмосковные известия», 1997, 21 августа) речь идёт о возможном восприятии Сталина в нашей стране. В интервью об оправдании Сталина говорится как о факте неизбежном, лишь степень оправданности является объектом обсуждения. В.Кожинов утверждает: «Я убеждён, что в России Сталин никогда не будет оправдан до такой степени, как во Франции оправдан Наполеон, ставший там величайшим представителем нации». В беседе с Зименковым Вадим Валерианович не столь категоричен: «Будем надеяться, никто не заставит русских людей отменить нравственный приговор Ивану Грозному и Сталину (иначе мы перестанем быть русскими)».
Подобная двойственность в отношении к Сталину характерна для статей Кожинова 90-х годов. Через часть из них лейтмотивом проходит идея о Сталине как абсолютном, высшем зле, которое побеждает обычное, земное зло, всех этих радеков, зиновьевых, «у кого руки по локоть, а ноги были по колено в крови…». И в свои «союзники» Вадим Кожинов берёт Александра Пушкина и Михаила Булгакова, как, например, в беседе с Вяч.Морозовым («Наш современник», 1999, № 6).
Сомнения возникают и по персоналиям, точнее, по Пушкину, и в плане общетеоретическом, ибо таким образом происходит частичная реабилитация абсолютного зла. К чему это может привести, продемонстрировал Вадим Кожинов в 2000 году. Он утверждает, что в темпах коллективизации и в раскулачивании были виновны зажиточные крестьяне, которые не захотели продавать хлеб государству. Действительно не захотели, только из-за низкой закупочной цены, а не потому, что, как считает В.Кожинов, этот небольшой процент крестьян «где тайно, а где явно, дал понять, что, угрожая всеобщим голодом, он готов был требовать от власти уступок, включая политические» («Российская Федерация сегодня», 2000, № 21).
Кожинов, который в стольких работах блистательно следует заветам своего учителя Эвальда Ильенкова («мыслить надо в фактах», «истина конкретна»), в данном случае нарушает его заветы. Там, где Вадим Валерианович факты приводит, они звучат неубедительно, и «обратной связи с реальностью» (то, к чему стремится Кожинов, по его признанию) не возникает.
Пытаясь доказать неизбежность коллективизации, Вадим Валерианович воссоздаёт атмосферу жизни в деревне 1925-1928 годов следующим образом. Он ссылается на свидетельство Николая Тряпкина, которому в указанный период было 7-10 лет. И далее следуют такие размышления и вывод Кожинова: «Зачем надрываться ради какого-то там расширенного производства, индустриализации? А ведь крестьяне составляли 80 процентов населения страны. Продлись такая жизнь до 1941 года - нам нечем было бы воевать».
Как видим, в трактовке этого вопроса Кожинов не оригинален, он повторяет расхожую версию советских историков-ортодоксов. Печально, что Вадим Валерианович, избегавший в советское время слова «колхоз» из-за невозможности сказать правду о коллективизации, на закате жизни выдал такую версию. Не менее печально и удивительно, что она стала популярной среди некоторых «правых» во второй половине 90-х годов.